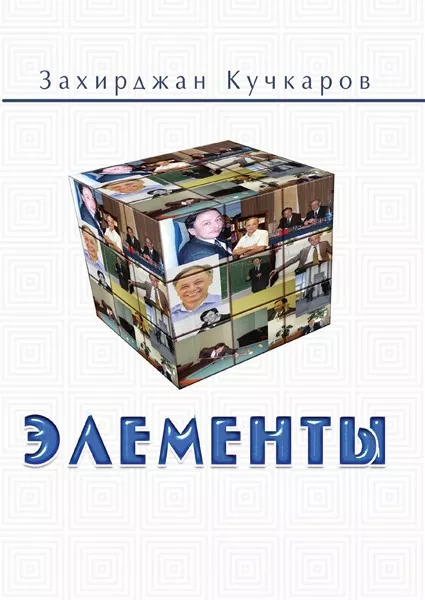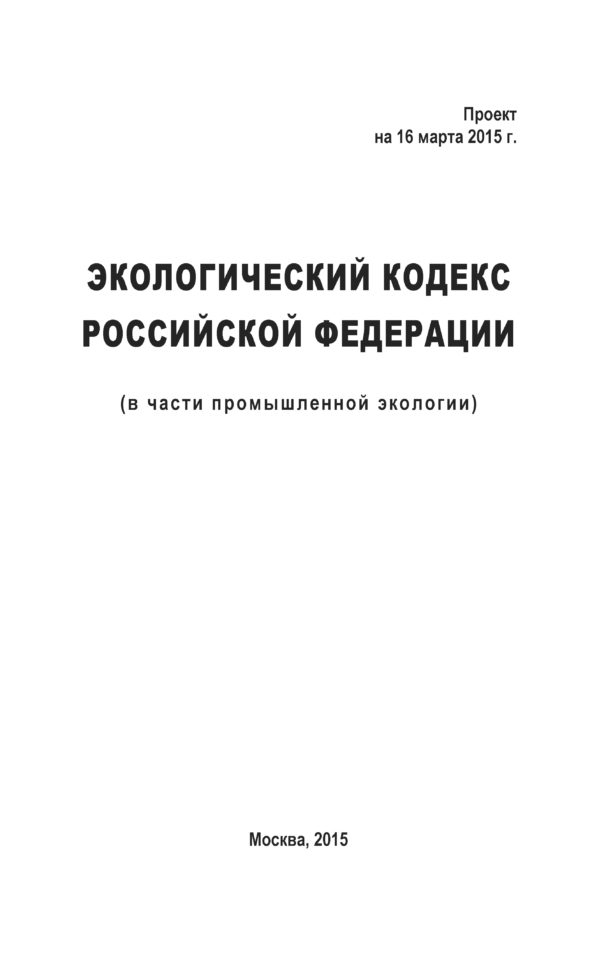Вышел из печати альманах «Развитие и экономика» № 14 с интервью З. А. Кучкарова «Без концептуального проектирования управляемость не восстановить».
Вышел из печати альманах «Развитие и экономика» № 14 с интервью З. А. Кучкарова «Без концептуального проектирования управляемость не восстановить».
В этом же номере опубликована статья «Спартак Никаноров: мыслитель и эпоха».
Захирджан Кучкаров: «Без концептуального проектирования управляемость не восстановить»
Интервью академика РАЕН, директора Центра инноваций и высоких технологий «Концепт» Захирджана Анваровича Кучкарова первому заместителю главного редактора альманаха «Развитие и экономика» Дмитрию Андрееву
Источник: альманах «Развитие и экономика», № 14, сентябрь 2015, стр. 54
– Захирджан Анварович, идея издать специальный тематический номер альманаха, который был бы посвящен советскому опыту и его восприятию, звучанию и актуальности – или же, напротив, неактуальности, исчерпанности – для дня сегодняшнего, вызревала у нас в редакции давно, чуть ли не с самых первых номеров. И вот, наконец, дошли руки. Сегодня, говоря на эту тему, естественно, никак нельзя обойти загадочную фигуру недавно скончавшегося уникального мыслителя Спартака Петровича Никанорова. Хотелось бы узнать о нём, о его наработках, до сих пор остающихся как бы «под спудом», мало кому известных, что называется, из первых рук, то есть от вас – как от одного из его ближайших учеников и последователей, своего рода хранителя ключей от школы учителя. Это – с одной стороны. А с другой стороны, посмотреть, каким может быть практическое воплощение наследия Никанорова в наши дни, в контексте нынешней повестки и всех тех вызовов, которые испытывает Россия, – в вашем понимании и вашем – как практика – исполнении.
– По мере выслушивания вашего вопроса у меня стал складываться примерный план ответа на него. Размышляя о том проблемном пространстве, которое вы очертили, я бы выделил две точки фокусировки. Прежде всего, конечно, это личный опыт. У меня, как и у многих не только живших, но и сформировавшихся, а главное – работавших – в советскую эпоху, просто не может не быть к ней некоего глубоко личного – я бы даже сказал, ценностного – отношения. Мы же, в конце концов, собираемся говорить об опыте не какой-то там Римской империи, о которой знаем только из книг, а Советского Союза, из чрева которого и вы, и я, и многие окружающие нас люди появились на свет. То есть некая очень личная рефлексия по поводу советского прошлого – это первая точка фокусировки. А вторая точка – собственно аналитическое осмысление закономерностей развития советской системы, ее дефектов и проблем. Не знаю, насколько у меня получится последовательно придерживаться то одной, то другой фокусировки. Не исключаю, что личное будет перебиваться какой-то претензией на объективное осмысление и наоборот.
– Захирджан Анварович, я-то как раз думаю, что не стоит преднамеренно разводить личное и аналитическое. Пусть они остаются переплетенными – так ваш рассказ будет выглядеть гораздо более жизненным, в нем не будет какой-то чрезмерной умозрительности.
– Ну, посмотрим. Во всяком случае, начать я собираюсь именно с каких-то личных воспоминаний. Я родился в ту эпоху – в 57-м году, – и сейчас мне полных 57 лет. Вот такое любопытное совпадение цифр. И я буквально с детства знал, что Советский Союз можно метафорически и при этом по существу точно обозначить одним словом – строительство. Давайте сейчас, если можно, не будем рассматривать ту эпоху с иных позиций – например, оценивать политический режим или вспоминать репрессии. Мой отец – Анвар Марасулович Кучкаров – всю свою жизнь непрерывно что-то строил. Понятно, что под строительством я в данном случае понимаю не укладку кирпичей, а созидание – в самом широком смысле этого слова. В разное время он занимал разные министерские посты в правительстве советского Узбекистана – был зампредом Совмина, министром иностранных дел, просвещения и дважды – министром культуры. Находился на партийной и дипломатической работе – был Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в странах Африки. Трижды летал на Генассамблею ООН с Андреем Януарьевичем Вышинским, когда тот был министром иностранных дел, а потом – после смерти Сталина – представителем СССР в ООН. 24 ноября 1954 года сопровождал гроб с телом Вышинского из Нью-Йорка, где тот неожиданно умер от сердечного приступа, в Париж. Замечу по ходу, что распространенная легенда, согласно которой Вышинский утверждал, что признание обвиняемого является лучшим доказательством его вины, действительности не соответствует. В своей главной работе он декларировал обратный принцип. Помню рассказ отца о том, как в компании людей, в том числе из Грузии, соревновавшихся в том, кто «с какого расстояния видел товарища Сталина», он после всех поведал, что ему Сталин несколько раз жал руку. А дело в том, что Сталин принимал членов советской делегации перед их отлетом на Генассамблею и по возвращении с неё. Трижды два – итого шесть раз! Это подняло его статус в той компании настолько, что в честь него грузины произнесли не один тост. Его как успешного и целеустремленного управленца бросали то на один, то на другой «фронт». При этом принципиальная новизна для него какой-то очередной сферы или отрасли, которой он начинал руководить, недостаток содержательных представлений о том, что она собой представляет и как функционирует, не были для него препятствиями. Да, разумеется, данное обстоятельство характеризует его способности как управленца. Но вместе с тем нельзя забывать, что советская система подготовки, переподготовки, ротации руководящих кадров была, что называется, заточена на формирование у людей готовности и компетенций к многопрофильной административной деятельности – по принципу «куда партия пошлет». Помню, когда он во второй половине 60-х стал республиканским министром просвещения…
– Это уже после завершения дипломатической карьеры?
– Да, он тогда вернулся из Африки со своих посольских должностей – что как раз было по профилю его образования: он заканчивал Высшую дипломатическую школу – нынешнюю Дипакадемию МИД РФ. Он ведь и карьеру-то свою начал с дипломатического поприща: сразу после выпуска его командировали в советское посольство в Афганистане. Это было после окончания войны – в 45-м. А в 46-м там, в Кабуле, родился мой старший брат. Так вот, получил он под свое начало сферу народного образования. Понятно, что на каком-то общем уровне – в конце концов, у самого высшее образование за плечами – он представлял себе, что такое просвещение. Но ведь, как говорится, дьявол кроется в мелочах, а таких мелочей в деле управления школами – тьма. И отец как опытный управленец начал с инвентаризации всего того хозяйства, которое ему досталось, чтобы вообще понять, с чем имеет дело. Он решил провести паспортизацию школ. Это сейчас многочисленные МБОУ СОШи то и дело оцениваются по какому-то совершенно неимоверному количеству критериев, и их руководство без конца пишет отчеты по всем этим пунктам. А в то время – да к тому же еще фактически в моноотраслевой республике, специализировавшейся на хлопководстве, один Чкаловский авиазавод в Ташкенте практически не менял этой общей картины, – никто толком и не знал, что такое паспортизация школ. Разработали какую-то самую общую анкету: сколько в каждой школе учителей по всем предметам, каким оборудованием они обеспечены и прочие такого же рода самые незатейливые вопросы. Потом сводили статистику по районам и областям. И в результате этой паспортизации выяснилось, что в школах Узбекистана жуткий дефицит учителей русского языка: в городах – двадцать процентов, а в селах – аж все сорок процентов. Как так?! С государственным языком плохо дело?! А как же в таком случае выпускники узбекистанских школ смогут работать на «стройках века» по всей стране? Проходить службу в рядах Советской армии? И отец написал служебную записку Шарафу Рашидовичу Рашидову, который тогда был первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана, где показал, что для средних школ республики в настоящий момент срочно нужны примерно пять тысяч учителей русского языка. Рашидов записку прочитал, но прямо сказал отцу, что не станет отсылать ее в Москву – иначе к нему будет вполне закономерная претензия: мол, а где ты был раньше, почему довел положение дел до такой катастрофической нехватки учителей «языка межнационального общения»? Но тем не менее не стал препятствовать отцу, чтобы тот сам поехал с этой запиской в Москву. Отец поехал и добился приема у Михаила Андреевича Суслова. Суслов его принял, выслушал и вскоре подготовил совместное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о дополнительной подготовке и распределении в Узбекистан учителей русского языка. Пяти вузам – в Москве, Ленинграде, Киеве и еще где-то – было поручено увеличить набор студентов – каждому примерно на 30–50 человек – на отделения русского языка и литературы филологических факультетов и, по мере их выпуска, отправлять по распределению на работу в Узбекистан. Я могу привести похожие примеры и из отцовского руководства республиканским Минкультуры. То есть где бы он ни работал, чем бы ни руководил – он везде строил. Это было его профессией – строительство общества, строительство государства.
– Вы абсолютно верно заметили, что сама советская система порождала таких, так сказать, «строителей по жизни». Помните Онисимова из «Нового назначения» Александра Бека? Режим поставил на поток производство таких вот онисимовых. Правда, оговорюсь: это было при Сталине, какое-то время по инерции при Хрущеве, но к застою онисимовых было уже очень мало – оставались какие-то отдельные одиночки. А к перестройке и они исчезли.
– Удачный пример вы привели. Если помните, Онисимов обладал феноменальной памятью – мог в любой момент привести требуемую точную цифру, назвать какой-то конкретный показатель производства, известный лишь самым узким спецам, имеющим к этому показателю непосредственное отношение. И отец был таким. Он постоянно оперировал большим набором статистических данных. И я воспринимал такую его способность как нечто само собой разумеющееся. Отчасти подобный высокий уровень, скажем так, «цифровой культуры» в нашей семье и предопределил мой выбор – я закончил МФТИ. Хотя вторым фактором, предопределившим такой выбор, были мой школьный учитель математики и родная тётя – учительница математики. Уже будучи студентом, я стал интересоваться социальной проблематикой. Причем этот разворот от физики и математики произошел во многом вынужденно: я наблюдал нараставшую неэффективность управленческих практик на всех уровнях и чувствовал, что в системе что-то разлаживается, а значит – необходимо предпринимать какие-то меры. Иначе получается абсурдная ситуация: в космос летаем, а мясом не можем нормально обеспечить население. И поэтому к моменту окончания института я для себя четко решил, что наука – это, конечно, ценность, близкая для меня к высшей, но если я уйду в науку, то окажусь очень далеко от возможности быть причастным к решению всех этих общественных проблем, которые меня волновали всё сильнее и сильнее.
– Очень любопытно, Захирджан Анварович. Между нами разница – двенадцать лет. Это время – в общем-то, совсем непродолжительное – оказалось эпохой, в которую многое поменялось. Вы закончили школу в 74-м. Тогда своеобразная харизма космоса, БАМа, оборонки была еще очень сильной. Выпускники школ массово шли в технические вузы не только потому, что в Советском Союзе их было намного больше, чем нетехнических, а в том числе и потому, что таков был тренд. Быть технарем считалось модным. А вот когда я закончил школу в 86-м, картина была иной. Да, в технические вузы продолжали идти – но прежде всего из-за того, что оттуда – точнее, из некоторых таких вузов – какое-то время еще не брали в армию, когда отовсюду уже брали. А когда я в 87-м ушел в армию, то брали изо всех высших учебных заведений без исключения. Моих одноклассников и меня в том числе гораздо больше привлекало образование гуманитарное. Это был новый тренд – мода переменилась. А заговорил я об этом, потому что вы сделали выбор в пользу социогуманитарной проблематики еще задолго до того, как она стала модной. Почувствовали её конъюнктурность и востребованность в недалеком будущем?
– С одной стороны, наверное, действительно что-то почувствовал. Я же сказал, что меня очень волновали те усугублявшиеся кризисные явления, которые просто бросались в глаза. Но с другой стороны, я еще в бытность студентом напряженно искал возможную сферу приложения своих текущих и будущих знаний, навыков, какого-то накопленного опыта. Интересовался журналистикой, пошел учиться в общественную школу журналиста – слушал там лекции Виталия Товиевича Третьякова, тогда пятикурсника журфака МГУ, – и стал работать в редакции институтской газеты «За науку», дорос там до редактора. После второго курса перешел с кафедры радиолокации на кафедру управления с базой в Институте проблем управления Академии наук. Внутри ИПУ тоже переходил от технических систем в сторону биотехнических. В общем, было несколько разных переходов, и в итоге на пятом курсе я пришел к Спартаку Петровичу Никанорову, который занимался концептуальным проектированием сложных систем. Пришел – и остался. И проработал с ним тридцать три года. Многие приходили к нему – но потом уходили куда-то еще, а я так с пятого курса и находился рядом с ним. Памятный для меня разговор с Никаноровым произошел шесть лет спустя. Он предложил мне заняться концептуализацией политэкономии. Я согласился, потому что понял: через концептуальную экономику проектирование может стать не просто поиском оптимизационных схем для разного рода министерств или корпораций. Ну, корпораций тогда, правда, еще не было – вместо них речь шла о промышленных или научно-промышленных объединениях. Так вот, мне стало ясно, что Никаноров предлагает заняться совсем не этим. Точнее, этим – постольку-поскольку, а главное – реализовать накопленный нами потенциал и квалификацию для концептуализации совершенно новых социально-экономических форм, общественных систем. И на протяжении пяти лет каждую неделю – без пропусков! – в один из выходных, в субботу или в воскресенье, мы собирались дома у Никанорова и работали весь день, с утра и до вечера. Его жена, Мария Дмитриевна Колганова, каждую встречу кормила нас обедом, поила чаем в полдник. Я непрерывно записывал ход работы, идеи, дискурсы, аргументацию, свою рефлексию и пометки на будущее продумывание. У меня сохранились все стенограммы этой нашей «пятилетки». Каждая из них – это примерно 20 листов А4, плотно исписанных моим довольно убористым почерком, фиксирующих ход рассуждений. Мы часами вели обсуждение, искали решения, причем я успевал записать не только Никанорова, но и себя – говорящего. И всего 181 такая стенограмма. Практически без перерывов на отпуск – встречи были еженедельными. И естественно – на голом энтузиазме, никто нам за это не платил. А я ведь не был москвичом, и мне приходилось еще работать в «почтовом ящике», как тогда называли оборонные предприятия, ради получения прописки и жилья. Так я жил с 85-го и по 89-й год. А потом ушли годы на то, чтобы всё это обработать, эксплицировать, вычертить схемы синтеза, описать и издать. Это уже было в кутерьме 90-х. Мы на тех наших «рабочих выходных» углубились в невероятные абстракции, вышли далеко за пределы марксистской формационной схемы, поняли, насколько примитивна дихотомия «социализм–капитализм», увидели структурное разнообразие социально-экономических форм и варианты переходов от одной формы к другой – образно говоря, а что там дальше, за социализмом, капитализмом… Причем одна форма конструктивно сменяет другую, наследуя плюсы и снимая минусы, совсем не в духе примитивных пропагандистских клише. Помню, когда мы этим занимались, регулярно возникал соблазн взять какую-нибудь из назревших тогда проблем, так и сяк повертеть ее, опубликовать с десяток статей, книги, защититься, наконец, – и стать знаменитым. Но это означало бы отказ от продолжения масштабной подготовительной работы по перепроектированию общества, что, как ни крути, стратегия, нежели просто-напросто обретение собственной ниши в научном сообществе.
– То есть вы взялись за дело накануне перестройки или в самом ее начале, а закончили еще до того, как она перешла в свою фатально деструктивную фазу. Рубиконом здесь стал, как я понимаю, 88-й год – самые разные события того года: от начала карабахского конфликта до XIX партконференции, визита Горбачева в Америку и многого другого.
– Да, наша «пятилетка концептуализации» невольно выпала на этот стык доперестроечной и перестроечной эпох. Проделав работу, мы поняли масштаб того, на что замахнулись. Это ощущение стало возникать задолго до завершения наших мозговых штурмов. Бывало, под вечер, когда мы выдыхались и позволяли себе порелаксировать, нас охватывало ощущение собственной исключительности. Мы буквально ощущали, что та степень рефлексии, до которой мы доходили, просто никому недоступна. И вообще самое время садиться за компьютеры и проектировать новое общество. Но тут на тебе – 91-й год: бюджеты одномоментно обнулились, научные институты стали сокращаться и даже закрываться. Нам пришлось взяться за то, что Никаноров презирал, – управленческий консалтинг, – чтобы хотя бы как-то выжить. То есть получилось не совсем так, как в фильме Захарова «Убить дракона» по пьесе Шварца: рыцарь Ланцелот сумел победить дракона во многом потому, что горожане тайно выковали меч и сделали воздушный шар для схватки с драконом и только ждали, когда же придет герой, который этим оружием сможет воспользоваться. Мы же почти выковали свой меч, практически сделали инструмент и были готовы отдать его в руки того, кто сумел бы им эффективно действовать. Сказать, что у нас была готовая технология «под ключ», – это, конечно, преувеличение. Но в целом всё уже было. Мы могли предъявить эскизы, идеи и концепции, на основе этих намеченных концептуальных «дорожных карт» было понятно, что у нас что-то выстраивается. Только вот, в отличие от фильма, герой так до сих пор и не пришел… Мы не были одиноки, с некоторыми коллегами, которые занимались аналогичной проблематикой, я был знаком, общался. Я имею в виду Георгия Петровича Щедровицкого, Сергея Ервандовича Кургиняна, Побиска Георгиевича Кузнецова, Иосафа Семеновича Ладенко из Новосибирска. Школа в Академии имени Можайского в Ленинграде – Кронин, Змиев, Соколов и другие – впервые эксплицировала теорию систем в аппарате родов структур. Триплетную модель понятий развивал Владимир Иванович Кузнецов в Институте философии в Киеве. Над языком тернарного описания «вещи–свойства–отношения» работал Авенир Иванович Уёмов. Все более или менее ясно понимали, что проблемы нарастают удручающим образом, что для парирования этих угроз требуются новые когнитивные средства, мощные интеллектуальные технологии, ресурсы и креативные люди, способные в ускоренном режиме заняться выстраиванием действенной альтернативы рушившейся советской системе. Меры, предлагавшиеся разными органами власти, не выдерживали никакой критики: всё сводилось к каким-то частным и притом сомнительным по своей эффективности мероприятиям – например, изменить структуру того или иного министерства, создать новое подразделение в Госплане и тому подобные идейные заплатки. Но главная проблема заключалась в другом – в демотивации людей. Я здесь имею в виду какую-то одномоментную и повсеместную утрату веры в то, что советскую систему можно удержать, спасти – я уже не говорю о вере в возможность ее улучшения, открытия у нее второго дыхания. То есть сначала деградировали ценности, а уже затем деградировал и функционал, в котором функционеры крутились. Идейное и интеллектуальное уныние переросло в апатию, в неверие, что можно возобновить развитие.
– Захирджан Анварович, а когда именно, на ваш взгляд, произошел такой перелом в господствующем настроении? Я уже сказал, что считаю именно 88-й год тем переломным моментом, когда перестройка превратилась в катастройку. А что вы думаете по этому поводу? Или же к сдаче, к слому системы стали готовиться еще раньше?
– Хороший вопрос. Кажется, Сергей Борисович Чернышов – автор книги «После коммунизма», руководитель проекта «Иное» – рассказывал, что в начале 80-х где-то сумел подсмотреть долгосрочный американский прогноз, известным способом добытый и предназначавшийся для наших высоких и закрытых кабинетов. В этом прогнозе прямо говорилось, что в СССР будут нарастать трудности, в 83-м или в 84-м году к власти придет молодое руководство, которое начнет реформы, а в 90-м Советский Союз распадется. То есть, когда я в конце 70-х – начале 80-х был сначала студентом, а потом аспирантом МФТИ в трапезниковском Институте проблем управления, кому-то всё уже было ясно. И кстати, помню, что и в этом институте, в котором писались какие-то аналитические записки в ЦК, Ольшанский из лаборатории доктора технических наук Александра Михайловича Петровского показал мне американскую статью, которую он переводил – тоже «для отправки наверх». В этой статье прямо говорилось: каналы управления в СССР напоминают атеросклеротические сосуды, прохождение решений затруднено, система окостеневает, теряет управляемость. Я тогда по молодости удивился тому, что такие вещи могли переводиться и предъявляться самим этим «костенеющим» высоким инстанциям. А коллега ответил на мое удивление ухмылкой: мол, «оттуда» так прямо и просят – писать больше именно про «окостенение», про этот самый «атеросклероз». Понятно, да? То есть в начале 80-х уже были некие люди, формировавшие такое вот странное отношение власти к происходившему тогда в стране. Чего тут было больше – какой-то рефлексии от уныния, борьбы в «верхах» или сознательной подготовки к демонтажу советской системы – мне сказать и сейчас трудно. Но очевидно, что процесс в направлении некой фундаментальной трансформации страны на момент начала 80-х уже был запущен. Но, видите ли, даже при таком раскладе никакой фатальной предрешенности не было и быть не могло в принципе. Я порой говорю, что если одному человеку удается подчинить своей воле две сотни миллионов людей, то значит, эти миллионы такие. Это и по сей день не получило научного объяснения. То есть так называемый сталинизм не исследован как социокультурное явление, как явление, допустимое развитием общества. Далее – ведь практически никто не пикнул, когда власть собственными руками откровенно ломала сложившееся государство в 91-м. Помните, проголосовали на референдуме за сохранение Союза? А через несколько месяцев Союз распустили – и это молча проглотили. Я уж не говорю о каком-то более или менее массовом движении против такого решения власти. Думаю, что те самые уныние и апатия, о которых я сказал, сделали свое дело – полностью обезволили общество. Вспоминаю еще один рассказ Никанорова о любопытном разговоре с одним главным конструктором – тот и подавно отодвигал начало развала еще в начало 60-х, аргументируя свою мысль тем, что, по его словам, после смерти Сталина ни одно – вы только в это вдумайтесь: ни одно! – постановление ЦК и Совмина не было выполнено… Но что мы всё о советском времени говорим. Давайте посмотрим на последнюю постсоветскую почти четверть века. Управляемость становится только хуже – даже по сравнению с тем, что мы имели до 91-го года. С одной стороны, «планирование» – это сейчас идеологически запрещенное слово. Какое может быть планирование, если мы официально заявили, что у нас рыночная экономика. Но с другой стороны, во всю практикуются федеральные целевые программы – а что это, как не завуалированное планирование? Все министерства социального блока сидят на бюджете – а это разве не планирование? То есть планирование никуда не делось, но сама ситуация с планированием выглядит гротескной: им вовсю пользуются, но при этом избегают называть вещи своими именами. Вот вы упомянули «Новое назначение» Бека, и я на это ответил, что Онисимов постоянно прокручивал в памяти колоссальные объемы цифр, боясь в чем-то ошибиться, опасаясь, что где-то может случиться нестыковка. А сейчас у нас расхождения даже не в цифрах, а в целых объектах, в инфраструктуре, в логистике – в общем, не в количествах, а в качествах. Например, заканчивается строительство морского порта пропускной способностью в миллионы тонн. И тут вдруг – вдруг! – выясняется, что пропускная способность подведенной к нему железной дороги рассчитана только на десять тысяч тонн. При этом в целевых программах – как я уже сказал, такой нынче применяется эвфемизм вместо планирования – не было предусмотрено модернизировать железную дорогу или строить новую, более современную. Есть и обратные примеры: строится дорога под определенные номенклатуру и объем грузов – например, в добывающих отраслях, – а инвестор по каким-то своим соображениям, не уведомив никого, решает делать шахты, для которых и предназначена эта дорога, «чуть-чуть» в другом месте. Или совсем уж фантасмагорическая картина: представьте себе мощную ЛЭП с трансформаторами и распределительными блоками, которая может запитать два-три завода, но эта линия заканчивается в степи – в пространстве, в котором вообще ничего нет производящего. Все эти истории я знаю из разговоров в разных министерствах, они не придуманы, а из реальной жизни. И как бы кто-то ни пытался забыть про планирование и целиком положиться на «невидимую руку рынка», нам просто придется отмотать ситуацию назад – примерно в поздний застой, в канун перестройки, – понять, какие тогда накопились проблемы в планировании и как их предполагали решать, и уже вооружившись таким пониманием, взяться за вживление плановых – по-настоящему, а не имитационно – начал в нынешнюю экономику. Никуда мы от этого не денемся. По-другому просто не получится. Обнадеживает то, что в последние годы в чиновничьих кабинетах появились относительно молодые люди тридцати – тридцати пяти лет, которые уже лет десять–пятнадцать работают в разных «вертикалях», выросли там. И вот у них есть некое комплексное понимание ситуации, они неплохо схватывают, где полномочия не стыкуются, где цели не согласованы. А то доходит до смешного. Идет на высоком уровне обсуждение серьезного документа по энергетической политике, и тут выясняется, что у Минэнерго и Минтранса разные цифры в показателях. И они не могут состыковать свои статистические данные, поскольку процесс планирования толком не налажен.
– Вы говорите о необходимости возврата к серьезному, основательному планированию – а возможно ли это в принципе после двух с половиной десятилетий «ударного» – в кавычках – строительства рыночной экономики, причем в ее самом худшем – сырьевом – варианте и буквально «на костях» советских наукоемких отраслей? Я правильно понимаю, что вы по-прежнему верите в возможность что-то кардинально перепроектировать в нашей стране?
– А мы в своем кругу вообще никогда веру не теряли. Ведь планирование – это целеполагание. Никто не собирается обязывать кого-то производить что-то вопреки его воле или производить нечто нерациональное. Цели же в силу сложности объектов и систем, длительности сроков их реализации должны быть согласованы и скоординированы. Что, от этого кому-то будет плохо? Или если есть ясные цели, планы и бюджеты, какие-то игроки рынка будут воротить нос? Да, простите, будут. Те, кто привык выбирать как раз нерациональные цели и неконтролируемые по результатам проекты. Мы больше трех десятилетий последовательно ковали меч и делали воздушный шар. И продолжаем заниматься этим до сих пор. Проблема-то на самом деле очень простая. Как в свое время советская система, так и нынешняя – постсоветская – у нас на виду. Она нам насквозь понятна. Мы не только хорошо себе представляем, что с ней происходит сейчас и чего следует ожидать в будущем, но и четко знаем, что именно и как именно надо делать, чтобы исправить ситуацию – сначала путем четких системных и в то же время оперативных мер, дабы остановить разрастание кризиса, а потом и в режиме долгосрочного, но и форсированного развития. Экономика, общество, страна, развитие, история – не системы. Система – без которой невозможно восстановить управление – нужна в головах. В этом смысле нам всё понятно. Я стремился покрыть концептуальными схемами как можно больше предметных областей. Поэтому столь различны темы НИР и проектов, для которых я искал и заключал контракты. Полистайте список тем: управление оборонным комплексом и безопасностью, строительством, здравоохранением, образованием, молодежная политика, культурная политика, промышленная экологическая политика и Экологический кодекс, Водный реестр, Лесной реестр, Реестр полномочий, стратегическое планирование, прогнозирование и управление развитием транспортного комплекса, техника нормотворчества, конверсия, информатизация, корпоративные стратегии – ЛУКОЙЛ, «Вимм-Билль-Данн», «Эксперт», «Фармимэкс», могу продолжать и дальше, – региональные стратегии и управление, муниципальное управление, моногорода, управление персоналом, оргструктуры заводов, инновации, налоговое администрирование, логистика, концепции, законопроекты, регламенты… Вы можете себе представить, что всё это разнообразие выполняет крохотная по любым меркам науки и проектирования организация? В каждом проекте я делал постановку задачи так, что не только достигался заказанный результат, но и развивался наш собственный аппарат, концептуализировались новые объекты. Поэтому я так и не научился тиражировать результаты как «готовые продукты» и жить на этом припеваючи. Проблема в другом – не накопилось определенной «критической массы» людей, годных по своим мотивам, волевым качествам и интеллектуальному, концептуальному «оснащению» для такой затеи, как модернизация страны. В свое время Ленин мечтал о ста тысячах тракторов. А я мечтаю о ста тысячах таких вот людей. Но где же их возьмешь. Наша кафедра в МФТИ выпускает пять–десять человек в год. То есть, выходит, нужную нам критическую массу людей мы наберем лишь через десять тысяч лет. Понятно, что мы одни с такой задачей не справимся. Необходимо запустить систему массовой подготовки кадров, соответствующих той шкале требований, которую мы разработали. Надо перейти от логарифмической кривой к экспоненциальной. А если мы говорим о массовой подготовке, то тут уже без мотивирующих прорывных идей никак не обойтись. Но «идеология» – это следующее после «планирования» запрещенное слово. И что остается делать в такой ситуации? Во-первых, несмотря ни на что, продолжать ковать меч. А во-вторых, внимательно, с широко раскрытыми глазами ждать. Ждать своего часа. Ситуация объективно работает на нас. Уже никто не отрицает произошедшей деинтеллектуализации страны, уже нарастает понимание того, что надо что-то делать – восстанавливать образование и науку, что рыночный механизм сам по себе очень многого не отлаживает, что весь этот на четверть криминальный и на четверть бюрократический рынок будет усугублять проблему. Такой обнадеживающий поворот в общественном сознании наметился. Переоценивать его – тоже не следует. Оснований для оптимизма пока еще крайне мало. Нынешнюю управленческую систему можно уподобить состарившемуся Советскому Союзу. Я-то в свое время думал, что советского наследия, разных там основных фондов хватит на пять – от силы десять лет. Но ведь до сих пор доедаем. Советский потенциал был огромный, просто фантастический. Об основных фондах уже несколько лет сетуют, что они изношены на семьдесят процентов, а они тем не менее продолжают работать. Не все, конечно.
– Помню, на рубеже веков часто указывали на 2003 год как на время, когда разом просядут все фонды и у нас наступит коллапс…
– Да, советское наследие продолжает тянуть на себе страну. Но главное – продолжает тянуть не только «матчасть», но и мотивация «советских людей». Вот это для меня большая загадка. Несмотря на объективные материальные проблемы – в конце концов, зарплата всех волнует – и на своего рода стерилизацию цинизмом, которую «верхи» начали еще до перестройки и только теперь пытаются остановиться, люди продолжают работать, потому что «а как же иначе?», и при этом считать, что их труд действительно нужен нашему обществу и нашему государству. Такие люди и впрямь, как сказал Маяковский, радуются тому, что их «труд вливается в труд» всей республики, которой остро необходимо, чтобы они продолжали заниматься тем, что делали раньше, до директивного провозглашения рынка. Но, к сожалению, эти люди – с советской трудовой закваской – сейчас в лучшем случае предпенсионного возраста, а у поколения, идущего за ними, такого опыта и такого воспитания уже нет. Разумеется, что-то они унаследуют от своих отцов и дедов, но потенциал этого «чего-то» будет значительно меньшим, нежели у их предшественников. Они в массе своей демотивированы, их картина мира иная, нежели у старшего поколения. В СССР был получен опыт управлять населением как некой целостностью – я снова ухожу от оценки тех «ошибок трудных», чей «сын» этот опыт, – теперь бы сказали: управлять человеческим капиталом. Сейчас такой задачи и близко нет. Я в данном случае говорю не о какой-то электоральной кампанейщине, предназначенной для того, чтобы вытащить человека к урне и побудить его поставить галочки в нужных местах в бюллетене. Под управлением человеческим капиталом я понимаю сложные многоуровневые процессы по целенаправленной мотивации, повышению уровня – образовательного, профессионального, культурного, здоровья наконец. Об этом мало задумываются, а любые попытки в этом направлении – в экономике, управлении, идеологии – демпфируются, гасятся.
– Захирджан Анварович, как известно, рынок у нас появился не на излете перестройки, а намного раньше. Другое дело, что в советское время он был теневым, нелегальным – а потому, наверное, и не мог тягаться с мобилизационными установками в открытом противостоянии, он их подтачивал, так сказать, из подполья. Хотя и недооценивать силу этого теневого рынка ни в коем случае нельзя. По этому поводу я всё время вспоминаю один очень симптоматичный факт. После войны Сталин, находившийся, казалось бы, на пике своего могущества, не смог ввести в стране продуктообмен из-за откровенного саботажа и сопротивления тогдашних «хозяйственников», интересы которых лоббировал Микоян – как зампред Совмина. Так что не надо россказней про якобы всесильного вождя, которому никто не смел перечить. Генералиссимус оказался слабее торговой мафии и отступил. А Микоян тихо и спокойно продолжал делать свои дела. Как говорили: «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». То есть теневой рынок был исключительно влиятельным. И что самое интересное, он и после 91-го года остался теневым. И в социокультурном смысле теневым – я имею в виду культурный мир, систему образов и символов, а также язык людей, занимающихся торговлей. Например, мода общаться «по фене» – о многом говорит. И в оценочном смысле он воспринимается подавляющей частью нашего общества как нечто неэтичное, аморальное. Но главное – рынок и в содержательном, и в инфраструктурном отношениях продолжает быть теневым. Сейчас оппозиционеры ставят в вину действующей власти, что она реанимирует советские порядки. Не знаю, что уж она там на самом деле реанимирует, но вот теневой рынок и реанимировать не пришлось. Он просто перешагнул из советской системы в постсоветскую, оставшись при этом теневым по своим ключевым параметрам, но при этом неимоверно усилившись в силу собственной легитимации. Да, вот такой оксюморон получается – рынок остался теневым и после легитимации.
– Начну отвечать вам с концептуальной квалификации, или оценки. Для меня торговля – одна из важнейших функций, обеспечивающих распределение и обмен произведенного. В ней как в функции ничего негативного нет. Советский теневой рынок – это не всегда в прямом смысле купля-продажа. Скажем, ремонт «Жигулей» в гаражном кооперативе – это тоже рынок. Вы приезжали к какому-нибудь условному дяде Васе, у которого в этом кооперативе был свой гараж и тут же рядом в каком-нибудь пустовавшем помещении – небольшая мастерская, и он вам вытачивал ту или иную деталь, которую невозможно было купить в магазине. Или возьмем репетиторство – за наличные. Были разнообразные мелкие платные услуги за счет личного труда – без задействования основных фондов. Они-то во многом и создавали массовый теневой рынок советской эпохи. Или, например, две соседки по лестничной площадке. Сначала одна присматривает за ребенком другой, пока та сходит в магазин, и одновременно за своим ребенком, а потом они меняются. Они оказали друг другу услуги, но натуральные, тут не было факта оплаты – а значит, не с чего брать налоги и, следовательно, нет оснований для формализации, легализации рыночности отношений этих взаимных услуг. А вот в Америке услуги, оказанные в домохозяйстве, входят в статистику ВВП. И это очень сложная статистика. Многие экономические процессы остаются не наблюдаемыми и не фиксируемыми с сугубо технической, операционной точки зрения. То есть даже если бы кто-то и захотел заплатить налог со своего червонца за помощь по математике соседскому ребенку-лоботрясу, то куда для этого надо было бы пойти, чтобы продекларировать полученный дополнительный доход, каким должен был бы быть размер налога? Мы называем такие проблемы операционно-недоступными. К слову, теперь по многим «тем» теневым услугам институты рынка введены.
– Понятно, Захирджан Анварович, вы говорите об архаичном советском теневом рынке услуг. Но я-то имел в виду другое – тот же рынок дефицита, например, или рынок лоббистских услуг. Помните, по министерствам шныряли разного рода «толкачи», которые должны были договариваться, «проталкивать», «пробивать». Именно «пробивать», а не «выбивать»: «выбивать» стали рэкетиры в 90-х. Про «толкачей» даже шутка ходила, что они – как партработники: и те и другие официально зарплату и премии получают за одно, а на самом деле занимаются совсем другим. Так вот, когда я сказал, что рынок как был теневым в советское время, так и остался таким же и в постсоветское, то имел в виду, что все наши новые реалии – такие, как олигархат, постолигархат, или новый олигархат, госкорпорации, – по-прежнему основываются на получении непрозрачных преференций, что не имеет ничего общего с классическими рыночными отношениями.
– Я вас понял. Отвечаю. Я знаю, что история не имеет сослагательного наклонения, но если бы мы еще в советское время постепенно, малыми шагами и грамотно начали разгосударствление и приватизацию, то в итоге и рынок вывели бы из тени, и государство сохранили бы. Что я имею в виду? Приватизировать парикмахерские, кафе, легализовать извоз, репетиторство, стоматологию – сотни, тысячи функций, которые были придушены без адекватных рыночных организационно-правовых форм. Или сняли бы ограничения на поголовье скота в личных подсобных хозяйствах на селе. Но при этом крупные заводы не трогали бы – оставили бы их в руках государства. Ну, остались же и по сей день не частными мосты, метрополитены – почему? На первых порах стали бы выводить предпринимательство из тени. Не впопыхах, а системно разработали бы законодательную базу, где четко прописали бы все необходимые критерии легитимности бизнеса. Возражение реформаторов знаем: «Политически не дали бы времени, задавили бы нас». А если начальные реформы были бы «вкусными», а не горькими, как «шоковая терапия»? Не знаю, из-за чего именно – общего уныния, геронтократии, сознательной внешней работы на слом советской системы или чего-то еще, – но ренессанса нэпа в СССР не получилось. Хотя о нэпе у нас ходят далекие от действительности мифы как об успешном, но искусственно прерванном властью эксперименте.
– Нэп в принципе не мог быть успешным. Если бы он был успешным, он сломал бы Сталина и не дал бы ему возможности реализовать его мобилизационные проекты. Тут уж кто кого: если бы Сталин не сломал нэп, то нэп сломал бы Сталина. И тогда еще не известно, с чем мы подошли бы к войне, выдержали бы ее вообще.
– Верно, но объективная польза нэпа заключалась в том, что он вообще оживил хозяйственную жизнь в стране. А это необходимо было сделать. Другое дело, что Сталин использовал нэп как своего рода стартер, а когда почувствовал угрозу от этого стремительно набиравшего силу уклада, он просто этот стартер отключил. Но если в 20-е годы нэп представлял собой реальную альтернативу социалистической экономике, то в 70-е годы его дозированное и регулируемое введение не несло в себе никакой угрозы советскому строю. А вот в Китае пошли на создание государственного капитализма – и оказались в выигрыше: и страна в целости и сохранности, и КПК у власти, и легальные миллиардеры имеются. Да, собственно, изменения у нас ни на минуту не останавливались, без деклараций, явочным порядком идут и сейчас. Посмотрите, чем занимаются теперешние олигархи в тех регионах, где у них добывающий, перерабатывающий или производственный бизнес. Они налаживают там социально-экономическую жизнь: «ставят» приличного управленца с завода мэром города или главой администрации района, кое-кто даже строит птицефермы и коровники, чтобы с продовольствием было всё в порядке и никаких претензий или, не дай бог, волнений не было. То есть они фактически, как и советские директора заводов, занимаются не только производством или бизнесом, но и социальным обустройством территорий вокруг своих объектов – особенно, если эти объекты градообразующие, если мы говорим о моногородах. И никуда от этого не денешься, потому что завод – это не абстракция, рабочие с него должны куда-то уходить, а их семьям требуются детские сады, школы, поликлиники. И вот эта складывающаяся по факту система сама по себе уже ведет к какому-то планированию или социальному прогнозированию… Сейчас начали говорить еще и о кадровой проблеме. Положим, некий крупный предприниматель собирается построить завод или вложиться в реконструкцию старого производства, а кадров, на которые он может рассчитывать, просто нет. Людей нет, которые стали бы на этом заводе работать. Демографическая карта страны качественно изменилась за постсоветское время. Значит, надо откуда-то завозить кадры, а для этого необходимо разработать законодательную базу такой трудовой миграции. Вот вы вспомнили «толкачей». Так они никуда не делись – по-прежнему сидят около министерских кабинетов, что-то просят решить, о чем-то договариваются, налаживают. Только называются они теперь не «толкачами», а лоббистами.
– Вот я вслед за вами и говорю, что современная Россия – это во многом никуда не девшийся Советский Союз, только, увы, обкусанный по сухопутному периметру.
– Да, но, к сожалению, в этом «новом старом СССР» бюрократизация превзошла все мыслимые пределы. Тут в ходу еще один эвфемизм – это называется «административные барьеры». На борьбу с ними отряжены Агентство стратегических инициатив, Открытое правительство и так далее. К концу 90-х у нас было, точно не помню, двенадцать или четырнадцать нефтяных компаний. Сейчас, правда, их стало меньше. Но если на тот момент в офисах каждой из них работали где-то около двух тысяч сотрудников, то сейчас их численность всего за полтора десятилетия возросла раза в полтора. У российской нефтяной компании сотрудников порядка трех-четырех тысяч. А во всём советском Миннефтегазстрое работали, кажется, 1800 человек. И ведь это министерство всю нынешнюю добычу разведало, разбурило, обустроило месторождения – то есть преподнесло сегодняшним компаниям. И зачем им в таком случае раздувать штаты? Зачем эти тысячи управленцев? В главке – так раньше называли главное управление министерства – прежде работали от силы несколько сотен – и при этом они контролировали от 50 до 100 заводов или иных производственных мощностей. Вот вам повод для сравнения эффективности. Что же, выходит, государственное плановое управление было эффективнее, чем современное рыночное? Мне приходилось и приходится довольно часто консультировать корпоративные управленческие структуры. Если бы вы только могли себе представить, сколько среди них малоэффективных. Время расходуется крайне нерационально. Например, два отдела пашут до девяти вечера, а в третьем отделе в пять часов вечера на рабочем месте уже никого нет. Бесконечные авралы, а на этом фоне многие сотрудники на рабочих местах играют в компьютерные игры или копаются в Интернете по своим интересам. Я уже не говорю про разные нестыковки в документообороте, регулярные потери важных бумаг – которые потом находятся в самых неожиданных местах.
– Простите, вы имеете в виду даже не госструктуры, а именно корпорации? Выходит, им присущи те же самые изъяны, какими страдают министерства и другие институты административной вертикали?
– В том-то и дело! Негосударственный сектор точно так же неэффективен, как и государственный, потому что проблема выстраивания эффективного контура управления в нашей стране вообще не решена – ни научно, ни технологически, вообще никак. Не скажу, что в Советском Союзе дела обстояли заметно лучше, но тогда пытались хотя бы что-то предпринимать в этом направлении. И многое получалось. В Китае мне рассказали, что у них есть специально созданный институт, который изучает опыт СССР. В нем небольшой штат сотрудников – примерно 400 человек. Они квалифицированно и досконально разбирают по кирпичикам, что собой представлял Советский Союз, как он функционировал. Вплоть до того, что анализируют наши стандарты – ГОСТы, СНиПы, – процедуры межведомственных согласований, принципы планирования. То есть выясняют, как вообще всё это работало. И по итогам таких исследований формулируют некую результирующую сумму выводов – для своего партийного руководства. Так что опыт СССР не пропал, а пристально изучается. Жаль только, что не в нашей стране… Хотя еще раз повторю: новая генерация управленцев – квалифицированных, понимающих дела, которыми они занимаются, – все-таки складывается и медленно пробивает себе дорогу. Я говорил о молодых – ну, условно молодых – управленцах, которые в последние годы занимают руководящие должности. И эта новая генерация крайне негативно воспринимает и оценивает управленцев прежних. Мне время от времени приходится от таких молодых управленцев выслушивать в адрес их предшественников: «полный ноль», «ничего не делает», «с этим бесполезно иметь дело – он всё завалит» и так далее. Самое главное, что отличает этих новых госслужащих – я, конечно, не могу говорить обо всех без исключения, – так это их совершенно иная мотивация, нежели у прежних постсоветских менеджеров. Те воспринимают должность как возможность заниматься собственным бизнесом, обеспечивать свои или чьи-то интересы, а эти хотят заниматься делом – именно как управлением той сферой, в которой они могут употребить квалификацию, навыки, знания, опыт, получить в итоге ощутимый результат. И уже как следствие – повысить собственный статус… Зачем я всё это говорю? Понимаете, критика современной системы как абстрактно плохой, нежизнеспособной, обреченной – а именно подобное мнение насаждается сейчас в отдельных СМИ и части блогосферы как безапелляционное – в принципе неверна. Система – как абстрактная модель – вполне нормальная и работающая. Ну, можно говорить о каких-то отдельных деталях, которые следовало бы оптимизировать, но в целом всё годно к употреблению. Проблема – в людях, по-прежнему «кадры решают всё». Высшие уровни выработки и принятия решений не обучены логике, системному анализу, целеполаганию, целедостижению, нормотворчеству. А между тем на низовом уровне у нас огромное количество добросовестных, старательных и исполнительных работников – преимущественно женщин. Трудятся они с утра до вечера, что-то набирают на компьютерах, собирают данные, подсчитывают значения десятков тысяч – да-да, именно такого количества! – показателей, пишут в огромном количестве различные справки и отчеты. Иными словами, «внизу» повсюду – незаметный, но колоссальный по своему объему, без преувеличения героический труд. И… во многом бесполезный. А на выработку решений он не ориентирован и не востребован.
– Но этот трудовой героизм низового звена – героизм поневоле. Кто-то ведь должен заниматься этим нарастающим валом бюрократической документации – в большинстве своем никчемной.
– Приведу такой пример. Недавно по заказу Министерства культуры была проведена работа: собрали и систематизировали все параметры отчётности, которые учреждения культуры на местах должны регулярно направлять в вышестоящие инстанции. Как вы думаете, какое количество параметров получилось? Двадцать тысяч. Вы только представьте себе – двадцать тысяч! В том числе и такие, как – ну, это уже не грани курьеза – «обновление фонда рыб в аквариумах зоопарков». Авторы этого исследования предложили сократить число параметров отчетности с двадцати до примерно двух тысяч. Казалось бы – здравое предложение. Но при его обсуждении было высказано резонное возражение аппаратчика: дескать, уменьшить объем параметров не проблема, но через месяц-другой, когда какой-нибудь имярек соберется посетить ту или иную область или республику, мы получим «сверху» задание за несколько дней подготовить справку о состоянии учреждений культуры в этой области, а готовых данных у нас не будет. Ну и в итоге решили пока ничего не менять. Александр Михайлович Шолохов – внук великого писателя и директор музея-заповедника своего деда – рассказывал мне, что на составление разного рода документов и отчетов, документов для проведения закупок по конкурсам у музея за год ушло пятьдесят пачек бумаги А4. Двадцать пять тысяч листов, понимаете? И это не какое-то сборочное производство, а всего-навсего музей-заповедник. Между тем в системном анализе давно выработан очень простой и бесспорный критерий рациональности и качества информации – служит ли та или иная информация выработке и принятию решений или не служит. В кибернетическом отношении информация должна быть такой и ее необходимо столько, чтобы понять, в каком состоянии находится изучаемый объект управления, и выработать в отношении него правильное решение. Вместо этого в управленческих структурах собирается, без преувеличения, на два-три порядка больше информации – причем в основной своей массе ненужной, – и руководящие работники просто не знают, что с ней делать. Попутно поясню для людей с гуманитарным образованием, что когда физики или математики говорят «на порядок» – это значит на нулик, то есть в десять раз больше. На два порядка – значит, два нулика добавьте – в сто раз… Проблема заявила о себе еще в советское время, когда повсеместно в министерствах и на заводах стали вводиться автоматизированные системы управления – АСУ. Помню, как один директор завода показал мне толстенную пачку распечатки – представьте бумажную ленту шириной формата А3 с дырочками по краям, которая складывалась по перфорации в стопку подогнанных друг к другу и неразделенных листов. Он сказал мне тогда, что каждое утро ему приносят такую пачку, в которой дается полная сводка по заводу за день, прошедший… неделю назад: что выполнено, что осталось, трудодни, выходные, коэффициенты производительности, реализация готовой продукции, складская логистика… Ну, в те времена еще не знали слова «логистика», но понятно, о чем я говорю. И еще многое другое. И он жаловался мне: мол, даже если я весь день буду только и делать, что читать эту распечатку, то я ее всё равно не дочитаю к концу рабочего дня, а утром мне принесут уже новую. И кому, спрашивается, нужен такой переизбыток информации? Стали придумывать паллиативные понятия типа «агрегированной информации». А о каком вообще агрегировании можно было говорить, если сам принцип сбора информации напоминал работу пылесоса: втягивать, собирать всё что было вокруг – без какой-либо предварительной систематизации и тем более без оценки полезности получаемых данных. А сбор информации должен подчиняться какой-то целевой установке. А для этого, в свою очередь, необходимо понимать, кто мы такие, чем мы управляем, в каком направлении движемся и чего добиваемся. Если же мы имеем явное перепроизводство информации непонятно какого качества, то такая информация просто перестает быть информацией как таковой. Пачка распечаток с буковками и циферками – это не информация, а целлюлозно-бумажная стопка, потому что, еще раз, информация – это только лишь те сведения и данные, которые, будучи осознанными и проанализированными, способствуют выработке решений.
– Захирджан Анварович, вы при характеристике общего настроя поздней советской эпохи употребили очень меткое слово – уныние. Наверное, усугубление управленческого уныния во многом провоцировала именно неспособность справиться со стремительно разраставшимся объемом информации.
– Безусловно! И автоматизированные системы управления как раз и были призваны помочь управленцам работать с информацией. Но ведь мало придумать АСУ, их еще надо научиться эксплуатировать и – самое главное – создать массового пользователя ими – что-то вроде сегодняшнего «юзера», работающего на своей «персоналке». А до этого в советское время не дошли, и АСУ остались в массе своей бесполезными. Оговорюсь, что в массе, поскольку были уникальные и очень эффективные системы. Говорят, что во многом это произошло в результате спецоперации Запада, приложившего руку к тому, чтобы застопорить у нас развитие АСУ. Ничего не могу сказать по этому поводу. Видел недавно документальный фильм про советского академика Виктора Михайловича Глушкова – создателя и многолетнего руководителя киевского Института кибернетики. Глушков отвечал перед Политбюро за создание и внедрение автоматизированной системы управления страной. Она называлась ОГАСУ. Глушков предложил выстроить Общегосударственную автоматизированную систему учета и обработки информации, то есть связать все существовавшие на тот момент вычислительные центры министерств и заводов в единую сеть и уже на основе этой сети комплексно решать задачи по развитию страны. И это задолго до появления Интернета. Конечно, техническая база тогда была еще слабенькой, не было оптоволокна, способного выдержать такую нагрузку. Я уже не говорю про сложное программное обеспечение, которое требовалось быстро разработать. В общем, чтобы запустить такую общегосударственную сеть, нужно было вложить средства, эквивалентные чуть ли не половине потенциала страны. Но, в конце концов, это уже конкретные перипетии истории. Главное – возникло само понимание того, каким образом следует управляться с информацией и в каком направлении двигаться дальше.
– Так в чем же заключалась западная спецоперация, где произошла та самая корректировка извне, после которой всё пошло не в том направлении, в каком следовало бы?
– Я уже сказал, что никакой конкретной информацией на этот счет не располагаю. Но точно знаю следующее. Может быть, проект Глушкова и был утопией. Но эта утопия возникла не на пустом месте. В Советском Союзе существовало пять или шесть школ, занимавшихся разработкой вычислительной техники. Вам, наверное, ничего не говорит такое название, как БЭСМ-6? Это электронно-вычислительная машина, компьютер на нынешнем новоязе, которую выпускал Московский завод счетно-аналитических машин имени Валерия Дмитриевича Калмыкова – был такой союзный министр радиопромышленности. Помню белорусские компьютеры серии «Минск». Я сам работал на этой технике, на «Минске-32», когда был студентом, – ЭВМ рассчитывала для «Мосхлебторга», какое количество машин следует вывести на линию, чтобы утром развезти хлеб по всем городским булочным, какой должна быть загрузка каждой машины и ее маршрут, чтобы охватить сразу несколько точек… Так вот, всего один любопытный факт, который проливает свет на возможную причастность неких внешних сил к сворачиванию советских программ создания АСУ. Дело было в 70-х. Собралось представительное межведомственное совещание по развитию АСУ. Встал вопрос о том, что программы для разных машин несовместимы. То есть программное обеспечение для БЭСМ не годится для «Минска» и наоборот. Поэтому заговорили о том, что хорошо бы иметь некую универсальную программу, подходящую для любой машины. Началось обсуждение, и никто не зафиксировал, кто именно с задних рядов вдруг сказал: «А вот в Америке сейчас идет серия IBM-360. Давайте мы ее архитектуру возьмем за базу, и на ее основе унифицируем всю нашу технику». Предложение на том совещании даже не обсуждалось: ну, высказывание – и ладно. А потом в протоколе совещания появилась рекомендация: все отечественные разработки свернуть и перейти на архитектуру IBM с операционной системой OS-360. И что в итоге? Наши машины были очень быстрыми. БЭСМ делала миллион операций в секунду. Скорость «Минска-32» была порядка ста тысяч операций в секунду. А через несколько лет, когда мы прекратили собственные разработки и перешли на ЕС ЭВМ – то есть единую серию, которая копировала IBM-360, – скорость первой новой советской машины ЕС-1010 составляла всего десять тысяч операций в секунду. Потом усовершенствовали до ЕС-1020 с двадцатью тысячами. А до миллиона дошли только лет через десять, на ЕС-1060. Но к тому времени мы уже утеряли все наши пионерские разработки и плелись в хвосте у американцев.
– То есть факт целенаправленной диверсии все-таки имел место?
– Не знаю. В нашем случае более значимое обстоятельство, нежели чья-то заготовленная инициатива перейти на IBM на том самом совещании, – это позиция руководства. Почему отказались от предложения Глушкова создать сеть машинных центров? Совсем не потому, что денег на такой проект не было. Когда действительно чего-то хотели – ракеты, бомбы, – ни с какими тратами не считались. Наверное, наши руководители почувствовали, что если проект академика Глушкова реализуется, то у них уже не получится рулить страной по-старому, так как многое станет прозрачным. Приписки будут затруднены. Ситуация во многом аналогичная вашей истории о Микояне. Да, сеть Глушкова не создали по вполне понятным причинам недостаточной технологической оснащенности. Но, видимо, предпринимались и какие-то соответствующие действия, чтобы законсервировать эту неразвитость. То есть, как часто бывает, – комбинация внутренних и внешних причин. А вот американцы активно заимствовали из советского опыта то, что считали заслуживающим внимания. Например, идеи пятилетнего планирования использовались Министерством обороны. Но только с корректировкой: не как у нас было – пятилетний план принимался на партийном съезде и более не уточнялся до следующего съезда. В США фактически каждый год принимается новый пятилетний план. Иначе говоря, по итогам года оценивается его выполнение и с учетом полученных результатов принимается измененный план на следующие пять лет. И так далее, внахлест. Разумно, правда? Вот и нам надо было постоянно держать руку на пульсе. Не замалчивать ошибки и сбои, а напротив – не бояться обсуждать их, делать из них выводы и как можно скорее исправлять. Не отказываться от трехлетнего бюджетирования, а сделать его по статусу вырабатываемым каждый год на следующие три года. Раз уж взялись проектировать государство, то надо было не останавливаться на достигнутом, а постоянно совершенствовать проектную разработку. А мы в какой-то момент перестали проектировать, любые планы всё больше и больше становились имитационными, фиктивно-демонстративными. Настоящее планирование должно быть адаптивным, а не догматически зафиксированным. Если мы сверяем часы с текущим состоянием дел, сравниваем полученные результаты с аналогичными в прошлом, это позволит нам точнее определять контур развития и его динамику, которая всегда неравномерная в разных сферах экономики. А Госплан исходил из неверного понимания концепта «растущая система». Он полагал, что темпы роста во всех отраслях могут быть едиными. То есть система может увеличиваться в размерах пропорционально по всем направлениям. Но смотрите, как растет ребенок, животное, растение, как растет город, компания. Размеры увеличиваются, но при этом не все линейно пропорционально, меняются соотношения. Ведь инвариантна структура системы, и приросты должны быть разные. Назывались разные показатели. В какой-то момент остановились на пяти процентах. Но ведь это нереально, абсурдно наращивать в одном и том же темпе и нефтедобычу, и высокоточное машиностроение, и книгоиздание. Если у ребенка все части тела будут развиваться с одинаковым темпом, то ко взрослому состоянию его голова достигнет троекратно боˆльших размеров. Госплан же линейно всё растил. Естественно, возникали нестыковки, появлялись дефициты, выбрасывались на ветер ресурсы. Ну и, конечно, сыграло свою роль и то обстоятельство, что по сравнению с 40–50-ми годами само народное хозяйство качественно усложнилось, а система управления им осталась неизменной. Да, работы по усовершенствованию системы имели место. В 70–80-е годы непрерывно писались разные методики, разрабатывались модели оценки эффективности, пересматривались ГОСТы и СНиПы. Были целые отраслевые институты, изыскивавшие возможности, как усовершенствовать управление в той или иной сфере народного хозяйства. Да, всё это было – но без должного азарта, без вызова, без пафоса, под бдительным надзором «сверху»: чтобы мы не переборщили с поисками нового. А потому все эти наработки оказались никчемными – как та самая распечатка АСУ у директора завода – с соответствующим к ним отношением как к тому, что делается сугубо «для галочки». Тем не менее все эти попытки улучшить ту систему планирования и управления представляют собой очень ценный опыт. Ведь по сути тогда без серьезной теоретической проработки, без предварительного опыта аналогичных проектов удавалось проводить серьезные научные исследования проблем и достигать высокого уровня их осмысления. Если бы в то время имелись коллективы, подобные нашему, то у них получилось бы нащупать тот путь, по которому следовало бы двигаться дальше, чтобы при этом и не растерять действительные приобретения, и не допустить скатывания в застой. Ну, а дальше мы упираемся в уже действительно серьезную проблему – нараставшую количественную и качественную сложность. И если с количественной сложностью – увеличивавшимися объемами чисел – еще как-то научились справляться, хотя бы с помощью имевшихся вычислительных машин, то прорыва в качественном осмыслении новой реальности, новой онтологии так и не произошло – это было просто невозможно без специальной концептуальной методологии. Я имею в виду мощные технологии работы с понятиями и с системами понятий. Недавно мы анализировали различные отраслевые системы законодательства. Возьмем, например, природоохранную законодательную базу. В ней сейчас действует порядка восьмисот нормативно-правовых актов. Это кодексы, международные соглашения, федеральные законы, постановления правительства, ведомственные акты Минприроды, Росводресурсов, Рослесхоза, Роспотребнадзора, Росгидромета, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Минсельхоза, Минздрава, Минпромторга, Минфина – понимаю ваше чувство омерзения, – но потом еще идут санитарные нормы и правила, ГОСТы и прочее. В них – несколько тысяч понятий и терминов. Такой массив крайне трудно усвоить, запомнить, где и о чем написано. То есть понятийную и терминологическую сложность не ухватишь голыми руками. Одновременно владеть примерно двадцатью предметными дисциплинами, чтобы работать с таким законодательным комплексом, человеческому мозгу невозможно. Их не получается систематизировать не только в голове, но и в специальных информационных технологиях ведения. А вот концептуально-логическими методами это делать можно. Эта сложность не осознается должным образом. О ней пишут и говорят в узких кругах, но делают это совсем не так, как следовало бы. Не осознается, например, что восемьсот законов и актов об охране природы от хозяйственной деятельности – ну, это безобразие, и с этим что-то надо делать. В 88-м году я был ответственным исполнителем одной научно-исследовательской работы, посвященной логизации законодательства. Мы придумали концептуальную схему проектирования идеального по ряду свойств законодательства. Это, кстати, тоже было в русле выковывания меча для ожидаемого героя. Взвесив результат, Никаноров пригласил для обсуждения и рецензирования нашей работы двух ведущих юристов из Института государства и права, один из которых был Борис Павлович Курашвили. Они высоко оценили нашу работу, новизна которой сводилась к воплощенной мечте о том, что сотни документов удерживать вполне реально – просто для этого нужна определенная технология. Потом Курашвили озвучил идею, что многие сотни законов вовсе и не требуются, нужно бороться с этой чрезвычайной регламентацией всего и вся, достаточно вообще оставить двадцать–тридцать законов Гражданского кодекса, а об остальном хозяйственные субъекты сами договорятся между собой. М-да… Что мы имеем сейчас? Ежегодно Дума принимает сотни законов, а правительство выпускает тысячи постановлений. То есть производство этой регламентирующей документации возобновилось и происходит с невероятной скоростью, но уже без оглядки на то, что часто одна норма не стыкуется с другой. Но конвейер всё равно работает без остановки: надо имитировать бурную деятельность и получать за нее все причитающиеся награды. Поэтому перво-наперво необходимо концептуальное конструирование. Чтобы сорганизовать деятельность многих, нужно иметь единую концепцию, и деятельность конкретных людей выстроится как ее операционализация. Вот скажите, какая главная цель у Минздрава? Вы думаете снизить смертность населения и улучшить состояние его здоровья? Ничего подобного! Называются совершенно иные ориентиры, и даже слова используются совсем уж какие-то канцелярские – типа «койкооборота», «числа пролеченных». А какая цель у МВД? Прочтите Положение о министерстве, потом вдумайтесь в показатели и критерии так называемой эффективности.
– Ну, тут должно быть всё четко прописано – декриминализация.
– Нет! Нет там таких слов. Говорится о другом. Например, о раскрываемости преступлений. Но как увеличивается этот показатель? Самый легкий способ увеличить раскрываемость преступлений – это сократить их… «регистрируемость»… Словом, работать в этом направлении можно и должно. Для этого, во-первых, нужно стратегическое системное решение руководства и, во-вторых, нужна критическая масса людей, которые понимают ситуацию в том ключе, в каком я о ней рассказываю, которые обладают рычагами влияния и которые мотивированы действовать в указанном направлении. И которые понимают, что это реально можно сделать, что это получится. А сейчас такой критической массы нет. Имеются отдельные мыслители, аналитики, теоретики, практики, осуществившие чудеса новых организационных форм, просто «предлагатели всего хорошего», критики «всего плохого», даже небольшие работоспособные группы – типа нашего «Концепта», – но этого недостаточно. Вот это главное. И этой критической массе придется взяться за дело даже в том случае, если шансы на успех будут представляться минимальными. Другого выхода просто нет. Да и на Западе уже тоже подошли к осознанию необходимости менеджмента нового поколения. Понятно, что если мы говорим о насущной потребности новой управленческой культуры, то делаем это по той простой причине, что стоим на краю пропасти, а их мотивация совершенно другая – оптимизировать имеющиеся наработки, изыскать дополнительные возможности извлечения капитализации. Ну и нормально – мы и они подходим к одним и тем же технологическим решениям, но с разных сторон и по разным причинам. Вон Питер Сенге говорит о «самообучающейся организации». Разве Госдеп США построен в соответствии с какой-либо концепцией? Нет. Так же, как и МИД РФ. На какой концепции основывается Минпромторг РФ? Ни на какой. Есть чиновники, начальники, департаменты. А какая организационная концепция, какая теория организации? Никакие. То, что мы себя сами строим, в принципе не рассматривается. А если начать это рассматривать и изучать, то тогда сразу посыплются вопросы: какими методами мы себя строим, кто строит, а кто функционирует? Кто отвечает за то, что проект правильный, а кто отвечает за то, что его реализация правильная, и за то, что его текущее функционирование правильное? Вот если начнет складываться понимание по всем этим вопросам, если разрозненные озарения и догадки станут стягиваться, как в воронку, в некое кумулятивное осознание, то значит, процесс самоорганизации уже близок.
– Захирджан Анварович, то, о чем вы говорите, можно назвать культурой больших проектов, культурой больших структур. И ваша проработка пространства, топографии такой культуры буквально филигранна.
– «Культура структуры» – мне понравилось, у нас не было такого словосочетания.
– Да, культура структуры. И в советские времена этим занимались прикладным образом. Возьмем хотя бы наши наукограды – нынешние ЗАТО. Стержень – это градообразующее производство, как правило – наукоемкое производство или просто конструкторский, разрабатывающий, проектирующий центр. А вокруг этого стержня накручивается социальная инфраструктура и всё остальное.
– Город-функция.
– Да, город-функция, очень верное определение… Захирджан Анварович, мы уже довольно долго говорим, и в результате, я надеюсь, читателям будет понятен тот контекст, в котором группа Никанорова начинала в советское время, чего вы добивались, как воспринимали окружавшую действительность. Ясен и сегодняшний контекст, о котором вы так подробно рассказали. И сейчас хочется узнать все-таки более детально о том, как вы сейчас работаете. Я в данном случае имею в виду не ваши инструментарий и методологию, а скорее ответ на вопрос, где и почему деятельность «Концепта» оказывается востребованной. Почему заказчики обращаются именно к вам, несмотря на то что вы, как я понял, – очень неудобные исполнители, потому что никогда не идете на конъюнктурные компромиссы.
– Хорошо, тогда я начну прямо с ответа на последний вопрос. Когда мы встречаемся с потенциальным заказчиком нашего продукта, рассказываем ему о своих возможностях, об уже имеющихся у «Концепта» наработках в близких проблемных областях, то в десяти случаях из десяти – ну, может, в девяти случаях из десяти – этот человек стоит на неколебимо скептической позиции: мол, ничего из этого не выйдет, ничего не получится, в России это не внедряется, все реформы терпят крах и тому подобное. И я обычно отвечаю на это: да, всё это действительно так, и шансы на успех не очень велики, но одна из причин – возможно, главная причина, – почему в нашей стране не удается ничего сделать, заключается в том, что ничего не предъявляется. То есть нет проектов, которые хотя бы на уровне оперативных моделей демонстрировали ту или иную эффективно функционирующую сложную структуру. В реальность этого не верят, потому что никто ни разу не пробовал предъявить такую модель. Если нажать на выключатель, то зажжется свет. Но до тех пор пока не сделаешь этого, можно и не верить в то, что лампочка загорится. Я вспоминал пьесу Шварца. Ведь пока не появился Ланцелот, никто не верил в то, что можно убить дракона. А отдельные люди верили и ковали меч для того момента, про который никто не знал, когда он наступит. Трудно сказать, кто в нашей стране будет наводить структурный порядок, но я хочу, чтобы меч для него был готов уже загодя.
– Сказка Шварца – это одно, а структурный порядок в России – совсем другое. Можно ли вообще ковать меч для его отложенного применения? Писать в стол – как отдельные советские писатели, не рассчитывавшие пройти через цензуру?
– Я понял ваш вопрос. Он для меня очень близкий. Можно даже сказать – выстраданный. Мы с Никаноровым много спорили на этот счет. Я говорил, что нельзя замыкаться в кабинетных семинарах и заниматься исключительно умозрительными концептуальными разработками. Надо ездить по стране, брать заказы – ведомственные, региональные, муниципальные. И пусть на малом плацдарме, на небольшом полигоне, но выстраивать что-то дееспособное и – главное – практическое. А Никаноров мне возражал в том ключе, что не следует размениваться на мелочи, надо как раз пока не выходить за пределы кабинета и заниматься оттачиванием и совершенствованием тех теоретических разработок, которые у нас имеются на данный момент. То есть не торопиться с демонстрацией меча – это я опять к образности Шварца, – а делать его еще острее, еще совершеннее, еще эффективнее. И при этом не соприкасаться с миром, потому что мир сам к нам придет, когда дозреет до осознания необходимости сделать такой шаг. У Никанорова даже лозунг такой был: «Нас должны начать искать!» – а вот когда они к нам якобы придут, тут-то мы и продемонстрируем им весь арсенал наших возможностей.
– А Никаноров продолжал руководить вашей неформальной группой и в постсоветские времена? Вы сказали про поиск возможных заказов по стране – а это явно постсоветская реалия.
– Поиском заказов я занимался сам, Никаноров этот практический срез нашего существования не курировал. Ему было предоставлено всё необходимое для написания серии монографий – кабинет, наборщица и корректор, макетировщик, он круглогодично сидел и писал книги. Практически немедленно я эти книги издавал. А внедрением и даже апробацией идей он не занимался. Наоборот, он не раз повторял: не надо этим заниматься, не надо тем заниматься, не надо ездить в непрерывные командировки – у нас работы шли по всей стране, от Южно-Сахалинска, Омска, Перми, Воронежа, Твери до Санкт-Петербурга, – лучше сидите и разрабатывайте рода структур да нормальные операции. А как и когда эти операции будут применяться, не объяснял. Этого и до сих пор в широком окружении «Концепта» никто не понимает. Кто-то из представителей школы Никанорова что-то уяснил про понятия, кто-то – про теорию множеств, кто-то – про теорию систем, но держателей, скажем так, «гипотезы Никанорова» в ее цельности и совокупности не существует. Считать меня «хранителем ключей от школы», как вы сказали в самом начале беседы, – преувеличение. Но в конечном итоге я со своим стремлением апробировать наши наработки на практике, переведя постепенно НИР в НИОКР, в технологии проектирования, не ошибся. Методология развита и превращена в технологию, она проверена и усовершенствована в экспериментах с различными объектами. А практический опыт работы с властями разных уровней! Это язык трансляции наших рекомендаций. Приходилось использовать порой и самые разные уловки – от увещеваний до «страшилок». Случались и арбитражные процессы, которые мы регулярно проигрывали, поскольку настаивали, что делать надо не то, что записано формально в техническом задании, а то, что действительно следует предпринимать в данной ситуации. Мы научились ставить цели, разбираться в проблемах, в людях и конфигурировать благоприятные проектные ситуации. Наше ноу-хау тиражируемо и может перетекать из моей головы в чужую голову. Мы работаем со студентами МФТИ, причем сразу окунаем их в какой-нибудь конкретный проект. И через какое-то время они говорят, что им стало скучно с однокашниками, что они начали по-другому, иначе видеть проблемы и походя решать их. Помните известный школьный опыт на уроке физики? Учитель высыпает на белый лист бумаги металлические опилки, подносит снизу магнит, и опилки выстраиваются вдоль линий магнитного поля. Затем магнит из-под листа убирается – и опилки снова лежат на бумаге бесформенной кучкой. Так и с концептуальным проектированием. Я вношу интеллектуальный «магнит» в организационную деятельность – и всё сразу становится на свои места, всё четко и понятно. Или другой пример. Мы же с вами понимаем, что такое прямоугольник. Я говорю: «Прямоугольник», – и у вас в голове возникает тот же самый прямоугольник, что и у меня. И у любого третьеклассника возникает в голове то же самое. То есть у каждого из нас в сознании есть идеальная конструкция прямоугольника. Вот вам первая концептуальная конструкция, которой две с половиной тысячи лет и которая возникла вследствие потребностей измерять площадь пашни и сравнивать участки земли. Если один и тот же конструкт присутствует в нескольких головах, то эти головы могут действовать согласованно. И никакая совместная деятельность невозможна, если отсутствуют одинаково понимаемые цели и одинаково понимаемая схема деятельности. Это как бы идеальное магнитное поле, задающее рамку возможности что-то сделать. А дальше начинаются чисто человеческие проблемы: один опаздывает, другой стремится смошенничать, третий пытается недоработать и уйти пораньше. Поэтому на магнитном поле конструкта возникают разного рода «надстройки» типа правового обеспечения, регламентов, мотиваций, представлений об ответственности и прочего. То, что у нас обычно выдается за самое главное – финансовое обеспечение, кадры, материально-техническая база и тому подобное, – это всё вторично. Главное – это то, что целевая деятельность людей должна быть организована по некоторой конструкции, по некоторой концептуальной схеме, разделяемой всеми в качестве некоего базового консенсуса, и при этом она должна отражаться в нормативных актах, фиксироваться ими. Без концептуального проектирования управляемость не восстановить.
– Захирджан Анварович, про опилки было всё понятно, про прямоугольник тоже, но потом – по мере ваших дальнейших рассуждений – стала ощущаться острая нехватка конкретики…
– Хорошо, перехожу к конкретике. Итак, с чего начал Никаноров? Он, а также будущий академик и создатель советской школы искусственного интеллекта Гермоген Сергеевич Поспелов некоторое время работали в США в проекте «Поларис», в рамках которого разрабатывалась одноименная баллистическая ракета для атомных подводных лодок.
– То есть как это так?..
– Понимаю ваше изумление. Я и сам узнал об этом факте из биографии Никанорова только спустя тридцать лет после знакомства с ним. Да, оказывается, было такое начинание, когда по договоренности между Хрущевым и Кеннеди в качестве конкретного практического шага в направлении разрядки и налаживания взаимного доверия между СССР и США большая группа – двести человек – советских ученых, имевших отношение к оборонке, была командирована поработать в, так сказать, «братской» в кавычках отрасли. Ну, понятно, что они там много всего «позаимствовали» «по-братски», и потом это было воплощено в соответствующих советских изделиях. Сети PERT он привез оттуда. Конфигурационное управление к нам попало в связи с этим сотрудничеством. Эти американские системы управления появились у нас «вдруг, откуда ни возьмись». Никаких теорий управления до 60-х годов, даже осмысления их не было. Вернувшись, наши люди попали в странное двусмысленное положение. Хрущева уже не было: при нем поехали, а вернулись при Брежневе. То, что Никаноров был знаком с министром обороны США Робертом Макнамарой, я знаю от Марины Александровны Лактаевой. Она устроила ему встречу с Макнамарой уже в наше время, году эдак в 2005-м, может быть – в 2008-м, – когда он приехал на пагуошскую конференцию в Москву при помощи Александра Ивановича Бучнева. Никаноров с Макнамарой разговаривали по-английски почти полчаса. Не знаю, правда, о чем.
– Фантастика! Никогда ничего не слышал об этой групповой командировке. Это, конечно, ничего не значит, но всё равно трудно поверить, что такое могло быть после Карибского кризиса и на фоне набиравшей обороты гонки вооружений.
– А вот все-таки было. Я сейчас не буду касаться сугубо военно-технических аспектов этой совместной работы над «Поларисом» – да я их и не знаю, – а скажу о том, чем конкретно занимался Никаноров. После возвращения в СССР он написал и издал статью о конструировании организаций как этапе развития теории систем в США. Эта статья была как гром среди ясного неба. Потом он участвовал в переводе книги о системном анализе, а возглавлял группу переводчиков Побиск Кузнецов. С английского переводили, последовательно сменяя друг друга, три группы. Наконец, Побиск Георгиевич подрядил группу под руководством Майи Васильевны Круть – заведующей кафедра иностранных языков МФТИ. Она делала перевод, каждую главу досконально обсуждали на семинаре в ЛаСУРСе – Лаборатории систем управления разработками систем, – по поводу каждого термина дискутировали: что такое система, что такое функция, как адекватно перевести эти и другие понятия? Никаноров во всём этом участвовал, а потом свел воедино результаты работы всех переводчиков. А Поспелов подготовил к изданию другую часть системного анализа – программно-целевое планирование и управление: то, что обозначается аббревиатурой PPBS – Planning-Programming-Budgeting System. Работавший над переводом под началом Поспелова его ученик – Валерий Алексеевич Ириков – стал потом деканом факультета управления и прикладной математики того же МФТИ… Понятно, почему Никаноров по итогам своей командировки в США написал статью о проектировании и создании организаций. Просто американцы поняли, что технические системы приобрели такой большой масштаб, что ни одна организация не в состоянии в одиночку их понимать, делать и удерживать. Для этого требуются десятки тысяч людей, сотни компаний, фирм – субподрядных, субсубподрядных и так далее. «Поларис» делали две тысячи компаний с двенадцатью уровнями субподрядной кооперации. Так и возникло сетевое планирование. А у нас вся эта системотехника пошла не в ту сторону. Не знаю, руководство не поняло, побоялось трудностей или не было в ней заинтересовано – может, всего понемногу. Да, потом разрабатывались оптимизационные модели, развивалось исследование операций, что-то делалось, но при этом как-то ушло то, что все эти разработки являются составными частями методологии системного решения проблем. Поэтому у нас оптимизационные модели никогда и нигде в экономике не применялись. Докторские диссертации по ним защищались – но не более того, никакого внедрения в государственное планирование или управление не последовало. Исключение составили разве что сетевые графики и сетевое планирование для технических систем. Например, головной институт Минэнерго СССР делал сетевые графики строительства крупных электростанций на десять тысяч событий, но при этом не возникло понимания, что и организации, занимавшиеся этим строительством, должны быть скоординированы.
– На какое время пришелся пик разработок в этом направлении? Какие это годы?
– Это в основном 60-е и начало 70-х. «Системный анализ» опубликован в 71-м. Но к 80-м уже наступил застой. Повторю, что чинившиеся «сверху» препятствия были деструктивны даже не столько сами по себе – хотя в условиях директивного управления их значение трудно переоценить, – сколько опосредованно: своим демотивационным эффектом. Отказ от практического внедрения разработок и, следовательно, отсутствие зримого, ощутимого эффекта от них разлагали людей, вгоняли их в то самое уныние, о котором я говорил. И сейчас мы наблюдаем во многом похожую ситуацию. С чиновником происходит так самая «обыкновенная история», потому что он думает: «Всё равно не получится ничего исправить, поэтому буду-ка я лучше думать о том, как пополнить свои доходы с помощью тех возможностей, которые мне дает моя должность». И правильно – не получится, до тех пор пока не будет предъявления. А предел падения – это когда как бы предъявляющий и принимающий решения просто договариваются, чтобы ничего не получилось, и «пилят» отпускаемые фонды и ресурсы. Можно подробно показать, как именно в большой системе происходит потеря управляемости. Образно говоря, что из какого прямоугольника проистекает. Вот она – теория систем в чистом виде. Есть динамические системы, есть статические системы, есть растущие, развивающиеся системы. Как спроектировать развивающуюся систему? Как организовать сельское хозяйство как динамично развивающуюся систему? То ли больше коров разводить, то ли – племенных быков? Как определить, чтобы всё это развивалось сбалансированно? Эти и подобные им вопросы оставались и остаются без ответов. Технические системы наращивали. Мы до сих пор ими пользуемся и даже какие-то новинки типа «Арматы» достаем из старых наработок. Но организация управления как была архаичной, так архаичной и осталась. Вернее, даже не осталась, а заметно ухудшилась. Я специально не подсчитывал, но навскидку могу предположить, что эффективность снизилась в десять раз по сравнению с советским периодом. Получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, по всем видимым параметрам люди сейчас в материальном отношении живут гораздо лучше, чем при Сталине. Но с другой стороны, за этот очевидный рост благосостояния платится неимоверно высокая цена. Если бы частная фирма функционировала подобным образом, то она разорялась бы каждые полчаса. Советский Союз не разорялся, потому что он не был открытой балансовой системой – что производил, то и проедал. Теперь же, когда Россия стала открытой системой, экономика прошла несколько дефолтов, да и сейчас балансирует на грани из-за зависимости от цен на энергоносители на мировых рынках. А между тем принципы регулирования усложняются, схемы организации деятельности усложняются, но отстают и гибкого внесения изменений не обеспечивают. Структуры окостеневают, затем придумывают себе работу, чтобы их не ликвидировали, и начинают вести обособленное существование. По поводу феномена обособления я вспоминаю замечательное, но совершенно не цитируемое письмо Фридриха Энгельса к Конраду Шмидту. В этом письме говорится о том, что после отделения торговли деньгами от другой торговли – товарами – первая начинает развиваться по своим собственным законам. Это и есть обособление, или относительно независимое существование того, что надстроено. Возникают ростовщические деньги, финансовый капитал, деньги продаются как деньги, появляются акции, а позже – теперь каждая домохозяйка это знает – деривативы. Вторичные деривативы… То есть происходит обособление за обособлением, в старом организме идет бурная новая жизнь. Если использовать эту образность, то можно увидеть, что в больших организациях также случаются обособления: возникают группировки с разными целями, начинаются конфликты. Причем речь в данном случае не только о государственных структурах, но и о частных корпорациях. Внутри и тех и других формируются индивидуальные и групповые субъекты, которые работают на себя, а не на организацию-работодателя. То есть обособление – это первая концептуальная модель, о которой следует сказать в контексте рассуждения об утрате управляемости. Вторая концептуальная модель – это цепочка последовательностей: «сложившаяся система» – «слежавшаяся система» – «осыпавшаяся система». Что значит – система сложилась? Для иллюстрации прибегну к образу корабля, днище которого обросло ракушками. Так и сложившаяся система представляет собой конгломерат разных эпох, разных идей и мыслей, разных руководителей, которые давно ушли, и их управленческих наследий. Но пока, тем не менее, эта сложившаяся система более или менее функциональна – она так или иначе выполняет свое предназначение. Но наступает следующий этап – система слежалась. Представьте себе старый заброшенный дом, некоторые этажи которого просели и срослись с нижними этажами. Опрокинем этот образ на систему. Такая система в принципе не подлежит реформированию, поскольку любые попытки что-то в ней изменить грозят обрушить разом всю конструкцию. Поэтому обитатели слежавшейся системы больше всего на свете боятся перемен и сопротивляются им. И наконец, третий этап – это осыпание, разрушение слежавшейся системы, сохранить которую не помогло даже то, что ее обитатели замерли и вообще не шевелились. Эти три концептуальные модели дают исчерпывающее представление о том, что собой сегодня представляют управленческие структуры. В них тотально отсутствует какая бы то ни было субъектность. Россия – бессубъектная – или очень уж мультисубъектная? – пустыня, в которой, кроме президента, нет субъектного начала. А ведь только при наличии такого начала возможно концептуальное проектирование. Люди приходят на работу, что-то делают, а сами при этом не верят в то, что их труд принесет какие-то позитивные результаты. И чем выше должности, тем сильнее неверие.
– Хорошо, но эти управленцы, которые не верят в самих себя как управленцев, на что вообще рассчитывают? Они же должны понимать, что у системы запас прочности не вечен. Прибегая к вашей концептуальной модели, можно сказать, что система слежалась и вот-вот начнет осыпаться. И что они тогда станут делать? Рассчитывают на то, что успеют вывести свои активы на заграничные счета и уехать? А пока напоследок торопятся еще что-то «попилить»? Хочется понять их мотивацию.
– Кто-то действительно дорабатывает и одновременно пакует вещи. Это влиятельный, но вместе с тем небольшой слой. А основная масса о том, чтобы уехать, думает как о возможной, но пока еще отдаленной перспективе. Нет у нас сейчас общепризнанного гуру, который ходил бы и говорил: это кончится вот этим, а это – вот этим, это плохо, так не надо делать – а надо делать вот так. Нет субъекта порядка, причем под таким субъектом я понимаю уже не личность – того или иного гуру, вождя или национального лидера, – а правильную, рациональную, эффективную управленческую структуру. Корень всех наших проблем – в отсутствии такой структуры. В отсутствии ее ценностного признания всеми. Во второй половине прошлого века наступила эпоха сверхбольших организаций, сложных структур. Но осознания, понимания этой трансформации не произошло. Получается, что де-факто уже имеется некий организационный уровень существования материи, но вместе с тем этот уровень движения не воспринимается, не изучается как нечто материальное. Никаноров говорил: «Нужно овладеть разнообразием социальных форм». И этот призыв не просто сохраняет свою актуальность, он по-настоящему никем и не воспринят, не услышан. Вот мы, наш центр, бились и бьемся над тем, чтобы всегда можно было достать некий аналог «таблиц Брадиса», найти в нем нужную социальную формулу и применить ее на практике. Нужны технологии, нужен концепт такой конструкции, которая адекватна сегодняшней ситуации. Эта конструкция должна быть правовым образом точно закреплена. И надо очень серьезно работать над трудовой мотивацией. Необходимо материальное стимулирование, но главное – почти исчезнувшее – психологическое и моральное. Чтобы каждый чиновник гордился: «Я – профессиональный госслужащий, я – профессиональный управленец».
– У нас сейчас чуть ли не в каждом вузе учат «деловому администрированию» по программам MBA…
– MBA – это управленческий фарс. Нынешнее управление не может быть таким, какому продолжают учить по западной модели. У нас привыкли отмахиваться: мол, у них всё хорошо, а здесь всё плохо, поэтому давайте будем просто копировать то, что есть у них. Да не хорошо у них, а плохо, серьезные управленческие проблемы имеются. Толкуют, что господин Обама не смог реализовать реформу здравоохранения США. Не смог именно из-за ее недостаточной концептуальной проработки. И в итоге пятьдесят миллионов граждан – страшно подумать! – не имеют медицинской страховки и соответствующей медпомощи. И это в ведущей мировой державе! Когда Тэтчер возглавила британское правительство после нескольких лет правления лейбористов, новые чиновники-консерваторы пришли в ужас: какой беспорядок в государственном управлении оставили им в наследство лейбористы. И новое консервативное правительство стало в спешном порядке издавать государственные регламенты, выпустили более двадцати томов. Ну, это же просто повторение советского опыта регламентирования. А уже потом, в наше время, Греф обратил внимание на этот опыт у англичан, когда стал вводить свои административные регламенты. Не знаю, был ли он в курсе того, что он внедрял в основе своей не британский, а советский опыт, когда вводил свой НЭП.
– Греф вводил нэп?
– Тут игра омонимов. Вводился не нэп – новая экономическая политика. НЭП – это аббревиатура установки: «Навести элементарный порядок». А уже после такого НЭПа должна начинаться высшая алгебра – концептуальная. Как вовремя подвозить к киоску коробки со сникерсом – давно ясно и понятно. Да что там киоск – даже для завода с номенклатурой в тридцать или сорок тысяч изделий имеется соответствующее программное обеспечение, позволяющее грамотно организовать его работу. Это всё, образно говоря, концептуальная арифметика, с ней никаких проблем нет. А я имею в виду более высокий уровень – концептуальную алгебру уровня корпораций, министерств, гуманитарной сферы. И вот тут начинаются проблемы. В том числе и из-за того, что нет грамотного подступа к такой концептуальной алгебре – не приходит гуру, который задал бы целеполагание. Не может быть никакого эффективного управления без целеполагания. Значит, сначала гуру должен задать цели, которые отвечают законам развития. Следовательно, требуется знать законы развития той или иной системы, отрасли, сферы и выбрать цели в соответствии с интересами работающих там субъектов. А для этого таким субъектам надлежит научиться артикулировать собственные интересы, искать компромисс, находить баланс сил. Если со всем этим разобрались, то можно переходить на следующий уровень – собственно стратегического, долгосрочного и смыслового целеполагания. Я прохладно отношусь к разного рода дискуссиям на тему: кто мы, откуда мы и куда идем. Не участвую по одной простой причине: потому что даже если участники таких дискуссий и придумают себе какие-то ответы на эти вопросы, у них всё равно ничего не выйдет. Для того чтобы вышло, нужно иметь в наличии все этажи пирамиды: государственное управление, законы, регламенты и прочее. Эти дискутанты могут сказать: «Мы – великая цивилизация, мы всех опередим». Отлично, а дальше-то что? Дальше нужно быстро разрабатывать тысячи документов, устанавливать правила игры, мотивировать сотни тысяч людей, ориентировать их и формулировать для каждого из них его собственные маленькие цели. Я ведь неспроста задавался вопросом, какая цель у Минздрава. У нас был заказ – разрабатывали целевые установки для системы здравоохранения на областном уровне. На уровне не абстрактной системы, а вполне конкретной – Ленинградской области. Какая должна быть цель у районного главврача? Его цель – снизить смертность на подведомственной территории. Не абстрактно «пролечить» количество, а именно снизить смертность, то есть добиться иного качества. Цель у медсестры больницы того же самого района – совсем другая: не снизить смертность, а вовремя и качественно сделать уколы и другие процедуры, поставить капельницы. Да, опосредованно эта медсестра работает на ту же самую цель районного главврача – участвует в системе мер, направленных на снижение смертности. Но в такой формулировке цель не должна быть поставлена перед ней. И вот эта эмерджентность – точнее, неочевидная декомпозируемость – у нас, как правило, отсутствует. Поэтому, пожалуйста: можно сколько угодно заниматься рефлексиями, анализом и самополаганием. Но потом-то всё равно придется обращаться к нам за концептуальным обеспечением любого подобного начинания – если, конечно, это начинание затевается всерьез и надолго. Потому что мы владеем всей этой условной «планиметрией Евклида» – всеми этими «прямоугольниками», «треугольниками», формулами и операциями с системами. В организационной сфере от рутинной деятельности никуда не уйдешь. Без нее всякая затея – не более чем клуб любителей. Это – основа, фундамент. А уже на этом фундаменте возводится остальное здание – я имею в виду научную и интеллектуальную управленческую деятельность. Вот она – пирамида. Базовый уровень: пришел на работу, сделал свое дело и ушел. Это – очевидность, которая не должна обсуждаться. Мы не можем требовать от водителя машины и наборщицы на компьютере разделять нашу решительность. Вернее, они могут ее разделять, это никоим образом не возбраняется, но их цель – другая: вовремя выйти на работу и качественно выполнить свои задания. Безупречное исполнение этого рутинного уровня должно быть гарантировано. Переходим на следующий – управленческий – уровень. Целеполагание здесь должно стать нормой практики. У нас если кто-то начинает заниматься целеполаганием – просто умозрительно, – то уже чуть ли не оппозиционер, потому что претендует на выработку альтернативных решений. Институты проектирования должны быть четко отделены, отграничены от всяких потребностей, желаний, не говорю уже – от завиральных идей разных «идеологов». И вот, кстати, об идеологии. Это – следующий этаж нашей пирамиды. Если нет идеологии – хорошо, назовем ее иначе – высшими ценностями например, – то нет и не может быть никакой осмысленной деятельности. Нельзя, невозможно просто заработать, поесть и поспать. Нет таких обществ и государств, которые могли бы существовать в такой системе координат. Осмысленная человеческая деятельность идеологизирована. Для меня интереснее другой вопрос: а как управляться с идеями? А если идеи начнут бороться друг с другом? Ведь идеи – самые «кровожадные» сущности. Существование одной идеи нестерпимо для другой идеи. Одна идея будет бороться с другой идеей, пока полностью не уничтожит ее – без всякой логики и аргументации. Если идея овладела некоторой массой людей, то эта масса станет уничтожать другую массу людей – ту, которой овладела другая идея. Значит, необходимы институты экспликации, артикуляции и согласования разных идей – этого недостает и нашей культурной политике. Правые и левые, либералы и консерваторы всех мастей и оттенков не могут договориться: кто мы такие, какие у нас общие цели и какие ресурсы на что мы тратим. Никакие институты планирования не могут внести ясность в эти вопросы – эти институты делают металл, нефть, дороги, мосты, стекло, покрышки, а кто должен делать смыслы? Общая социальная рефлексия, которая будет возрастать, – это ресурс. Причем ресурс неизмеримо более мощный, чем мускульный, силовой, машинный или энергетический. Виктору Гюго принадлежит высказывание: «Нет ничего сильнее идеи, время которой пришло». Я хочу понять, почувствовать хотя бы – пришло время идеи, которой занимается «Концепт», или еще не пришло. О том, что мы тут нарабатываем, надо писать и писать. И только тогда, может быть, выйдет какой-то толк. О каждом нашем проекте хорошо бы написать по две-три книги и по паре десятков статей. У нас в архиве 1542 тома отчетов по проектам и НИР. И каждый том – подчеркиваю, каждый! – содержит новизну. Если я буду редактировать и издавать по одной книге в день, то уйдет более четырех лет. А если по одной в неделю, то 29 лет… Я не могу. И при этом надо преподавать нашу методологию во всех вузах – и в университетах, и в авиационных, и в сельскохозяйственных. И так далее. Причем преподносить эту методологию как некий комплекс взаимосвязанных дисциплин – логики, теории систем, основ рефлексии, основ системотехники, основ управления и других – близких – предметных областей.
– Хотите вырастить целую армию кандидатов в Ланцелоты?
– Да вот всё время приходится раздваиваться. С одной стороны, продолжать ковать меч для ожидаемого Ланцелота, а с другой стороны, самому порой махать небольшой копией этого меча, брать на себя кусочек миссии этого героя. Поэтому сейчас крайне востребованы те, кто возьмет на себя задачу популяризации нашей деятельности и наших разработок. Вот как вы, например, в вашем альманахе. Информация о нас должна расходиться широкими кругами. И конечно, надо самым серьезным образом продумать вопрос о том, как, на каком языке транслировать наши наработки. Никаноров учил нас быть предельно дотошными, пунктуальными и даже занудными при работе с языком. Для этого мы и оттачиваем синонимы с омонимами, занимаемся вычленением понятий, их «расчисткой», группированием, обобщением, придумыванием новых терминов и так далее. Работы тут – на годы. Я вот, например, не вижу, не знаю и не могу придумать или нарисовать способ перевода наших концептуальных операций на английский язык. Я уж не говорю – на китайский язык. Почему? Потому что для такого перевода надо быть в равной мере виртуозом и в иностранном языке, и в нашей концептуальной области. Бессмысленно же переводить слово «концептуальный» словом conceptual, это ровным счетом ничего не значит. Conceptual – это «понятийный», но никак не «концептуальный» в нашей интерпретации. А таких виртуозов-переводчиков, которые способны понять и передать все эти оттенки, нет. По крайней мере, я их не знаю. Но заказчик не появится, до тех пор пока с нашей стороны не будет масштабного предъявления. А перевести хотя бы на английский надо: ведь понятно, что наша методология – это общечеловеческое культурное достижение.
– То есть на сегодня вам остается заниматься спасением управленческой культуры здесь и сейчас в режиме интенсивной терапии?
– Да, именно этим. Ничего другого пока нет. И параллельно шлифуем собственный концептуальный русский новояз со своими нормами и правилами, на котором только и можно работать. Нельзя писать формальные документы на богатом литературном русском языке с оттенками. Надо писать без оттенков, потому что в противном случае заложишь размытость, и исполнитель промахнется. Наш тезаурус – это специальным образом подобранный, ограниченный, отшлифованный русский язык с определенными правилами построения фраз, но вместе с тем язык, вытекающий из естественного языка.
– Захирджан Анварович, большое вам спасибо за такую основательную беседу. Думаю, что она, с одной стороны, проясняет какие-то аспекты нашего недавнего прошлого, а с другой стороны, провоцирует еще больше вопросов и по поводу упущенных несколько десятилетий назад возможностей, и особенно по поводу текущего момента. Но это, наверное, и хорошо. Вы несколько раз сетовали на отсутствие в настоящее время некой критической массы людей, готовых принять на вооружение вашу методологию. Между тем хорошо известно, что качественный человеческий материал формируется в том числе и в ситуации, когда буквально захлебываешься вопросами, на которые не можешь найти ответа. Да, это рискованный момент. Можно смириться, махнуть на всё рукой – и начать довольствоваться той данностью, в которой существуешь. Но можно и взбрыкнуть, неожиданно для самого себя почувствовать силы и желание начать искать ответы на эти вопросы, чтобы плыть не по течению, а туда, куда хочется… Очень надеюсь, что вы и ваш «Концепт» и впредь будете подавать пример именно такого своенравного интеллектуального поведения.
8 июля 2015 года
PS: В этом же номере опубликована статья «Спартак Никаноров: мыслитель и эпоха».